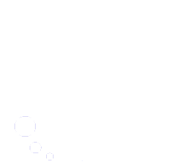изображение с сайта Третьяковской галереи
Термин «русский космизм» в качестве философской идеи был введён советскими учёными в 1970-е годы в связи с развитием космонавтики и потребностью анализировать социальные и экологические проблемы. О «космической философии» говорил ещё Циолковский.
Вопросы космической философии, идея о единстве человека и Вселенной привлекали внимание русских художников и литераторов, в том числе гениального художника, погибшего совсем молодым, Василия Николаевича Чекрыгина (1897 -1922 гг.) и поэта, журналиста и критика, тоже ушедшего рано, Георгия Якубовского (1891–1930 гг.) В своих произведениях они по-своему воплотили космическую философию. И Василий Чекрыгин, и Георгий Якубовский были приверженцами Русского Сократа, удивительного и необыкновенного философа Николая Фёдорова.
Детские откровения и переживания юности у Николая Фёдорова вылились в грезы о преодолении коренных пороков человечества, главным из которых он считал небратство. Эти мысли претворились в мощную философскую программу, которая вызывала чувство солидарности у величайших умов того времени. Владимир Соловьев признавал Федорова своим «отцом духовным». Ф. М. Достоевский писал, что прочел его мысли «как бы за свои». С нескрываемым почтением относился к философу Л. Н. Толстой. В письмах того времени он пишет: «Ему 60 лет, он нищий, всё отдает, всегда весел и кроток». «Мне очень тяжело в Москве. Есть здесь и люди. И мне дал бог сойтись с двумя. Один — это В. Ф. Орлов. Другой — Н. Ф. Федоров». «Это был худенький, среднего роста старичок, всегда бедно одетый, необычайно тихий и скромный. Ходил зимой и летом в одном и том же стареньком коротеньком пальто. При большой подвижности умных и проницательных глаз, он весь светился внутренней добротой, доходящей до детской наивности. Если бывают святые, то они должны быть именно такими», — вспоминает сын Льва Николаевича Илья Толстой.
Федоровский замысел был проектом не только радикального переустройства мира, но и духовного преображения человека в нем. Федоров обращался к «учености» мира, признавая науку величайшим достижением. Ее возможности он считал поистине безграничными.
Голод, смерть и неродственность — вот три страшных змея, которые опутали цивилизацию и душат ее, считал Фёдоров. Эти слепые природные данности необходимо преодолеть любой ценой, иначе проект «человечество» можно считать провалившимся. По мысли Федорова, через осознавшего свой долг человека «природа достигнет полноты самосознания и самоуправления, воссоздаст всё разрушенное и разрушаемое по её слепоте…».
Эти базовые утверждения были положены в основание федоровской программы и разошлись целым веером позднейших концепций космизма: от естественно-научных до литературно-художественных.
«Mip — это то, что существует в настоящее время, когда природа господствует над чувствующим и разумным существом, когда и это чувствующее и разумное существо, рождая, т. е. бессознательно производя новое существо, само стареет и умирает вместо того, чтобы, воссозидая умерших, самому делаться бессмертным, нестареющим, т. е. самовосстановляющимся». Вселенная — лишь обитаемый мiр, ойкумена, материальная действительность. Она находится во власти неразумных, бесчувственных сил хаоса, не дающих мiру собраться воедино. В противоречивом характере «мира» Федоров видит ключ к пониманию «общего дела» человечества. С одной стороны, мiр есть целое, он един и единственен. С другой стороны, в мiре постоянно идет война, он состоит из многого, которое враждует между собой. Почему природа нам не мать, а мачеха или кормилица, отказывающаяся кормить?».
Мiр - род, который не есть мир-согласие, — это хаос. Мiр в состоянии мира — это космос. Так его понимала еще Античность. Космос — осуществленная гармония целого в противоположность хаосу. Гармония, которая снимает противоречие двоемирия. Таков исходный смысл русского космизма.
Настоящий мир — это космос, пространство цельности. В это пространство необходимо прорваться. Космос необходимо освоить. Сделать своим. Всем мiром, всем родом человечество должно совершить рывок и перейти в состояние космичности. Объединить мiр-вселенную и мир-согласие, мiр-род и мир-не-войну. Необходимо преображение пространственно-временной ткани Вселенной из первичной материи хаоса в истинный космос, в космическое отечество. (4; 10. Но для этого род должен сначала объединиться в себе. Прийти в состояние заветного «братства».
Смерть проделывает дыру в полноте мира, обрекает мир бесконечно рождаться заново.
Будучи глубоко и искренно верующим христианином, Николай Фёдоров считал, что главное в учении Христа – это весть о грядущем воскрешении всех умерших, победе над смертью – «последним врагом» человечества. Эта победа, по мнению философа, свершится при участии творческих усилий труда человечества, объединившегося в братскую семью. Книга Фёдорова «Философия общего дела» говорит о космическом будущем людей-землян. Для этого Николай Фёдоров использует поэтические образы, исторические аналогии, метафорические сопоставления. Идеи Фёдорова поражали воображение современников, что и случилось с нашими героями.
Человечеству, считает философ, придётся обратить взоры в космос и, осваивая его, овладеть методами природной регуляции космического пространства: сначала планетарно метеорологической, а затем и теллуро-солярной, осуществляемой в пределах Солнечной системы, и астро-космической, то есть вселенской. Эти оригинальные взгляды Фёдорова вдохновили Василия Чекрыгина на создание цикла «Воскресение умерших», а Георгия Якубовского на написание поэмы «Восстание погибших» и других стихотворений, посвящённых идеям космической философии, которые вошли в его книгу «Песни крови» (1925 г.). (4; 10, 12).
Графические листы Чекрыгина 1921-1922 гг. проникнуты космизмом мироощущения, в проекции которого художник осмысливает человека и время. «Восстание» Василия Чекрыгина – это упование на воскресение всех умерших в страшные годы войн и революций, это попытка противопоставить смертельному хаосу веру в бессмертие человека.
Космизмом мироощущения проникнуты стихи Георгия Якубовского. Уже в 1912 году в стихотворении «На распутьи» поэтом ощущается желание «сбросить земные цепи» и найти в себе высший, без тоски и одиночества, гармоничный космический мир:
Отчего ж мне грустно средь земных раздолий
И неверен ход моих минут?
Отчего желанен мне до боли
Тихий солнечный неведомый приют?
(2; 21)
В биографиях Василия Чекрыгина и Георгия Якубовского удивительно много общего. Оба родились на западе российской империи: Василий Чекрыгин в 1897 году в Киеве, а Георгий Якубовский в 1891 году в Седлеце Холмского уезда Люблинской губернии. Оба были шестыми детьми в многодетных семьях: в семье Чекрыгиных было десять детей, в семье Якубовских – тринадцать. Обе семьи были православные: Василий Чекрыгин учился в художественной школе Киево-Печерской лавры, а отец Георгия Якубовского был священником и получил от Николая Второго Панагию за распространение православия на Холмщине.
Василий Чекрыгин в 12 лет поступает в иконописную школу при Киево-Печерской лавре. В 14 лет уезжает в Москву и одним из первых выдерживает вступительные экзамены в Училище живописи, ваяния и зодчества. Там он подружился с Владимиром Маяковским, Давидом Бурлюкои и Львом Жегиным – сыном Фёдора Осиповича Шехтеля, знаменитого архитектора, создававшего шедевры русского модерна. Именно Лев Жегин, который был на пять лет старше Чекрыгина, стал его ближайшим другом до конца жизни, а впоследствии и первым биографом.
Георгий Якубовский также увлекался живописью, учился в художественном училище в Киеве и примерно в то же время, что и Василий Чекрыгин, оказывается в Москве и поступает учиться в университет имени Альфонса Леоновича Шанявского, который, кстати сказать, был его земляком. Становится соавтором поэтического сборника «Зигзаги в тумане» символистской направленности, подготовленного слушателями университета имени Шанявского. Слушая университетские курсы по философии, истории, филологии, одновременно занимается живописью в мастерской последователя импрессионистов, художника Константина Фёдоровича Юона.
Это были предвоенные и предреволюционные годы. Промышленный подъём, расцвет науки, искусства и литературы. Наряду с этим, 1910-е годы порождали в наиболее чутких душах предчувствие катастрофы, «конца света», всеобщей гибели и расплаты. Живописные произведения Василия Чекрыгина 1912-1914 годов органично вписываются в духовно-философский и психологический контекст времени.
Вся атмосфера первых лет революции пронизана идеями о полном переустройстве жизни, о конце старого мира. В листах Чекрыгина мы видим и чувствуем пафос этих идей. Николай Фёдоров в своём главном труде «Философия общего дела» заявляет о космическом будущем людей-землян. Как для Циолковского идеи Фёдорова явились импульсом к обоснованию использования ракет для полёта в космическое пространство, так и для Василия Чекрыгина и Георгия Якубовского эти идеи оказались движителем создания своих произведений.
В стихотворении «Лучи всех звёзд» сознание Георгия Якубовского захвачено символом Вечного – лучами безбрежного океана Космоса. Поэт прибегает к жанру мистерии, так как, по мнению Константина Бальмонта, поэты должны властвовать над миром и проникать в его мистерии. (5, 20). Все значительные явления окружающей жизни, считали символисты, представляли собой мистерии – таинственные драматизированные действия, искупающие грех человека, воскрешающие человека к новой жизни и приводящие его к Богу. В стихотворении «Лучи всех звёзд» мы имеем типично мистериальное погружение в пространство, окружающее поэта:
Ночь,
В переплётах окна –
Звёздная татуировка.
Лучи всех звёзд
Преломились
В сердце моём.
Всежизнь,
Всебытие,
Бесшумно
Скользя надо мной,
Протекает во мраке.
Я
С глазами закрытыми,
С губами сжатыми,
Вижу
Всежизни
Бессмертный поток.
Беспредельный,
Бурно-живой.
(1; 81)
Мысли Фёдорова об оживлении всех людей, когда-либо живших на земле, и о дальнейшем переселении человечества на другие планеты овладевали умами творцов: поэтов, художников, философов, изобретателей.
Учение Фёдорова о всеобщем воскрешении стало философским обоснованием графических работ Василия Чекрыгина 1921-1922 годов и многочисленных рисунков о победе света над тьмой, сделанных средствами чёрно-белых контрастов. Ознакомившись с трудами Фёдорова, Чекрыгин по- своему осознал роль художника в человеческой истории: он отводил искусству животворящую роль – художник как бы сам воскрешает из мёртвых предыдущие поколения. Вершиной творчества в представлении Чекрыгина становится фреска – высшая точка в создании высокодуховного художественного образа. На небольших листах, работая большей частью углём и графитом, он создаёт удивительные произведения, готовя себя к созданию фрески. Его графические листы проникаются космическим мироощущения, в проекции которого он осмысливает человека и время. В письме Чекрыгина к Н.Н. Пунину в конце 1920 года читаем: «… нужно влить новое содержание, наполнить живой мыслью и жизнью… мёртвую теорию… Мы идём ко всеобщему явному Воскрешению в очищенной плоти для вечной жизни. Это и есть величайший, священнейший реальный акт Вселенской жизни, и этому служат живопись, поэзия и музыка». Он трудился неистово, создавая до 30 рисунков в сутки. Именно эти рисунки стали основой его творческого наследия.
Мысли о бессмертии личности потрясли художника. Федорову Чекрыгин посвятил рукопись «О соборе воскресающего музея». Художник начал работать над воплощением своего нового замысла — созданием монументальной фрески о всеобщем воскрешении и космическом будущем человечества. Образно воплощая мысль Фёдорова о воскрешении всех когда-либо живших на земле людей, а не только праведников, художник изображает фигуры в бурном движении либо величественно «восстающими», либо еще только «освобождающимися» из плена смерти. Виртуозно используя выразительный язык графики: линию, пятно, контраст света и тени, - В.Н. Чекрыгин передает таинственную атмосферу воскрешения, высвечивая поднимающиеся из темноты небытия фигуры людей («Композиция с фонариками»). В своих лучших листах Чекрыгин, пытаясь создать «очищенный образ просветленной плоти», добивается почти полного исчезновения фигур («Композиция с ангелом»). Рисунки, исполненные прессованным углем и графитным карандашом, свидетельствуют о редком даре художника, о совершенстве его пластического мастерства. Его живопись органически пластичная, светоносная, живая. «Я бы хотел писать лучами света,.. » - говорит художник. (3; 23)
Большинство рисунков Чекрыгина посвящено сценам воскрешения из мёртвых. Живущие своим творчеством возрождают умерших. На каких-то листах люди общаются с душами, покинувших этот мир. На других – воскресшие переселяются на другие планеты. Не прошёл мимо этих тенденций и художник Константин Фёдорович Юон (875-1958 г.г.), в студии которого занимался Георгий Якубовский. Об этом рассказывает картина Юона «Новая планета». Она насыщена космогоническими и эсхатологическими прозрениями эпохи. С содержанием этого полотна созвучны стихи Велемира Хлебникова с его космическими метафорами:
«Мы дикие звуки,
Мы дикие кони.
Приручите нас,
Мы понесём вас
В другие миры.»
(3; .23).
В конце 1921 года Василий Чекрыгин и его единомышленники объединились в Союз художников и поэтов «Искусство – жизнь», известный больше под названием «Маковец». В литературном разделе журнала сотрудничали Велемир Хлебников и Борис Пастернак. Василий Чекрыгин написал устав. В предисловии первого номера «Маковца» читаем: «… возрождение искусства возможно лишь при строгой преемственности с великими мастерами прошлого и при безусловном воскрешении в нём начала живого и вечного. … Мы ценим то высокое чувство, которое порождает искусство монументальное… мы будем воспитывать в себе общий дух и твёрдые традиции.» (3; 35-46).
Эта точка зрения солидарна с манифестом поэтического сборника «Зигзаги в тумане», вышедшего в 1914 году, в котором Георгий Якубовский и другие авторы заявляют также о преемственности с великими произведениями и идеями: «Грядущее немыслимо вне преемственной связи с настоящим» (2; 35-46).
Георгия Якубовского также увлекли идеи Фёдорова
«Воскрешение мёртвых». В 20-е годы Георгий Якубовский также увлёкся идеями Николая Фёдорова, несколько переосмыслив их в русле свершившейся социальной революции. В небольшой поэме «Восстание погибших», датированная 1921 годом, у него воскресают труженики, убитые непосильным трудом. Именно в это время создавал свой цикл о всеобщем воскрешении Василий Чекрыгин.
Космическая энергия у Якубовского - это всепроникающая субстанция по спасению человека и воскресению его к новой жизни. Наиболее ярко мифический путь космической энергии просматривается в поэме «Восстание погибших» 1921 года, где она действует в виде солнечного света. Художественная форма поэмы отвечает не только библейским канонам, но и эллинским, элевсинским мистериям. Если классические составляющие мистерии – это грех, смерть, очищение и воскресение, то вся поэма – мощный торжественный акт воскресения рабочего люда для жизни вечной:
Они из могильного лона
Выходят безмолвно, без стона…
(1; 16)
Подлинная история, считал Николай Фёдоров, начнётся тогда, когда человеческое сознание сможет увидеть в окружающей действительности ростки бессмертия. Эта подлинная история будет не историей разрушения, войны и смерти, а новой историей вступления человечества в вечность, обретение им бессмертия.
Якубовский, следуя идеям Николая Фёдорова, выводит своих погибших во вселенские просторы, далеко за пределы Земли.
Семена мудрости прорастают в сердца погибших, и они тянутся вереницей, огибая Землю в Космос. Вырисовывается ритуал инициации мистерии, обряда посвящения, объединения человека с Богом, – переход погибших на новую ступень – воскресение:
В чёрной бездне
Первозданной -
Вихрь великий…
Взметнулся грозный хоровод
В вселенские просторы.
(1; 16, 19)
Кто же инициатор, боготворящий мастер этой мистерии? Процесс воскресения погибших происходит под натиском дерзновенной воли… солнечных лучей. Пронизывая подземные и надземные сферы, сгустки солнечной энергии заставляют оживать предыдущие поколения трудовых людей. Солнечная сила в поэме собирающая и созидающая:
Миг созиданья, час свершений
Насыщен кровью страшной дани,
Впиваясь в солнечную мишень,
Искупит века былых страданий.
(1; 20)
Картина Константина Юона «Новая планета», художественную мастерскую которого посещал Якубовский в Москве, как нельзя лучше иллюстрирует тему такого вселенского воскрешения. В стихотворении «Уголь» Якубовский пишет:
Алмазный луч солнца
Бороздит человечества
Тело и мысль!
Но боготворящий мастер мистерии – не только Солнце, но и сердце самого поэта. В поэзии Георгия Якубовского сердца людей не раз называются Солнцами. Как частичка – сгусток солнечного божества - возникает в поэме-мистерии «Восстание погибших» сердце поэта, которое «…реет и кличет над каждой могилой», заклиная:
Развейся туман,
Покиньте вечности ложе,
Восстаньте из гробов,
Труда безрадостные дети.
(1; 15)
Здесь мы видим созвучную идеям Фёдорова волю самих людей, сознающих свою ущербность без присутствия на Земле предков.
Вопросы бессмертия и связанный с ними акт воскрешения в поэме Якубовского «Восстание погибших» в то время был очень актуален. Эта идея-мифологема, существовавшая со времён библейских пророчеств, ярко высветилась в революционном воздухе России, возникнув в учении Николая Фёдорова. Необыкновенно ярко и образно иллюстрирует Якубовский идею воскрешения предыдущих поколений из их праха:
Города и деревни
Отверзли адские люки
Земли – гробницы древней,
И камни мостовых – лица,
Арки – виселицы,
Храмы – могильные плиты.
Сонмы бездольных!
Чьи смыты имена,
Чья жизнь была темна,
Полна мучительной натуги,
Кто знал лишь боль и страх,
Кто не мечтал быть гордым,
Кого в тисках,
В заклятом круге
Гоняли до смерти на корде, -
Они из могильного лона
Выходят безмолвно,
Без стона.
Сонмы подневольных.
Вот они! Вот они!
Увечных тысяч сотни,
Мильонные роты.
Идут больные, встают калеки,
Сочатся раны, гноятся веки.
Согбенных тел
Неисчислимый ряд,
И серых лиц
Цепь бледная овалов,
Где ваш предел,
Не знавшие отрад?
Из мглы сырых подвалов,
От земли до звёзд теснится –
Такая вереница …
(1; 15, 16)
Влияние философии Николая Фёдорова чувствуется в стихотворении
«Из горячего пепла», где Георгий Якубовский представляет себя на месте воскресшего из праха:
Все мы из пепла
Тех,
Что горели,
Стремились,
Трудились,
Надеялись –
Жили.
Мы все – из останков,
Из праха,
Мы все – из горячей
Кровавой золы,
В которой время раздуло
Тлеющий уголь
Неугасимой жизни.
Проходили полки трудовых поколений.
С работой их
Связаны мы
Беспрерывными нитями –
Проводами преемственной жизни.
(1, 30)
Как пролетарский поэт с особой струёй космизма Якубовский снова погружает читателей в трудовую мистерию: в стихотворении «Под мусором веков» происходит воскрешение огромного исполинского пролетария, который призван явить миру «красные иероглифы»:
Как некий грозный бог,
Усилием последним
Я сокрушу в победном сдвиге
Последний пласт бездушных глыб,
Нагромождённые осколки
Кровавых плах веков.
Над голубою пылью
Вздыбленного праха
Явлю земле
Окровавленное лицо,
Над миром вознесу
Свой выпрямленный стан,
И к солнцу протяну
Израненные руки.
(1, 13)
В последующем развитии философии, искусства и литературы идея коллективного воскресения претерпела не одну трансформацию, материалистически окрепнув в трудах К. Циолковского и манифестах биокосмистов. Если биокосмисты торопили события, считая такое будущее не за горами, то другие учёные-материалисты высказывались сдержаннее относительно времени наступления такого будущего. С такими учёными был солидарен и Якубовский. Очень осторожно и неопределённо высказывался он о времени прихода физического порога бессмертия. Победа над смертью для него прежде всего означало то, что «наслаждение искусством и познание новых областей в природе заполнят жизнь бессмертного человека» (5, 75). Якубовский считал искусство высшим смыслом человеческого существования, высшей формой общественного сознания, а основным критерием литературного произведения считал его художественные достоинства. Если писатель талантлив, дарование его богато, то к какой бы литературной группировке он ни принадлежал, самые важные стороны общественных процессов не смогут ускользнуть из его сочинений. (5, с. 177,179).
Георгий Якубовский предложил читателю своеобразный пролетарско-мифологический эпос, заглядывая далеко за пределы Земли, в космическое пространство.
Творчество Василия Чекрыгина таинственно, мистично и загадочно. Его произведения не поддаются полной расшифровке. Сущность персонажей многих своих работ художник охарактеризовал так: «Не принимайте эти фигуры за тела, в них не должно быть ничего телесного, это только образы, духи». Имя Василия Чекрыгина стоит в ряду таких художников, как П.Н. Филонов, К.З. Малевич, В.В. Кандинский. Как и они, он создал своё неповторимое самостоятельное направление в изобразительном искусстве, нашёл своих единомышленников и последователей, вписал яркую страницу в историю мирового искусства.
Произведения Георгия Якубовского и Василия Чекрыгина, созданные почти в одно и то же время, перекликаются и дополняют друг друга. То, что гениально воплотил художник изобразительными средствами, подкрепляется поэтическими образами и повествованием поэта, давая нам интереснейшую картину мировоззренческих пристрастий жизни в России в 20-е – 30-е годы прошлого века.
Литература:
1. Якубовский Георгий. Песни крови. 1913-1924. М.: Государственное издательство, 1925. – 100 с.
2. Чернов Дмитрий, Якубовский Георгий, Яхонтова Нелли, Семеновский Дмитрий, Овагемов Фёдор. Зигзаги в тумане. Стихи. Москва: МСМ ХIY, 1914. – C. 21-33.
3. Елена Мурина, Василий Ракитин. Василий Николаевич Чекрыгин. Издательство «RA». Москва, 2005. – 285 с.
4. Оносов А.А.Крестьянский вопрос философии общего дела. // Крестьяноведение. – 2024. Том 9. № 3. С. 7 – 22.
5. Колчанов Владимир Викторович. Г.В. Якубовский – поэт и критик. Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук. Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина. Тамбов. 1996. – 225 с.